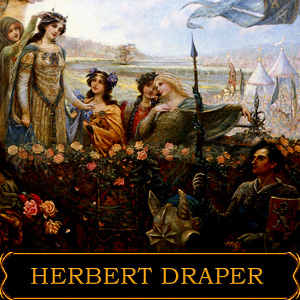14 |
Тетушка Хулия и писака
Марио Варгас Льоса
Глава 14
История преподобного падре дона Сеферино Уанки Лейвы, приходского священника из Мендосито, где разместилась свалка, по соседству с районом Ла Виктория, известным своим футбольным полем, началась полвека назад, в карнавальную ночь, когда некий молодой человек из приличной семьи, любитель пообщаться с народом, изнасиловал в тупике Чиримойо Тереситу, по прозвищу Негритянка, разбитную прачку.
Обнаружив, что она беременна, и учитывая, что у нее уже восемь детей, нет мужа и почти нет надежд, что с таким потомством ее кто-нибудь поведет к алтарю, Тересита немедленно обратилась за помощью к донье Анхелике. Старая знахарка проживала у площади Инквизиции и обычно исполняла обязанности акушерки, но чаще изымала из утробы непрошеных гостей, попросту говоря, делала аборты. Несмотря на ядовитые зелья, которые донья Анхелика заставляла Тереситу пить (настоянные на собственной моче и давленых мышах), плод насилия проявлял упорство, давая возможность заранее предположить, каков будет его характер, и отказывался покинуть материнскую плоть. Он ввинтился в нее, как шурупчик, и здесь рос и формировался, пока, наконец, через девять месяцев после совершенного на карнавале насилия не захотел появиться на свет. У прачки не оставалось иного выхода, как родить его.
Его назвали Сеферино, чтобы доставить удовольствие крестному отцу, привратнику в здании конгресса, и записали фамилию матери. В детстве Сеферино не давал повода предполагать, что станет священником, ибо нравились ему отнюдь не богослужения, он предпочитал крутиться волчком и запускать воздушного змея. Но всегда — даже прежде, чем заговорил, — Сеферино проявлял свой характер. В воспитательной практике прачка Тересита интуитивно следовала спартанской школе или, скорее, учению Дарвина: ее жизненная философия выражалась в намерении внушить своим детям, что они, если хотят жить в этом мире, должны научиться получать и возвращать оплеухи и проблема поисков пропитания с трехлетнего возраста — их сугубо личное дело. Стирая белье по десять часов кряду и разнося его потом по всему городу — еще восемь часов, — она может заработать на жизнь только себе и немногим, кто еще не дорос до того возраста, когда каждый себе хозяин.
«Плод насилия» проявлял настойчивость и стремление выжить, дававшие о себе знать еще в утробе: он мог питаться чем угодно, любой дрянью, подобранной в мусорных баках, за которую дрался с нищими и бродячими псами. Пока его братья мерли, словно мухи, от туберкулеза или отравлений и в отличие от тех, кто, став взрослыми, все еще мучились от последствий рахита и страдали умственной неполноценностью, едва одолевая экзамены, Сеферино Уанка Лейва рос здоровым, сильным и достаточно смышленым. Когда прачка (у нее, возможно, развилась водобоязнь?) уже не смогла больше работать, ее кормил Сеферино, а пробил ее час, он, уже став приходским священником в Мендосите, устроил ей похороны по первому разряду через похоронное бюро «Гимет». Все обитатели Чиримойо считали, что то были лучшие похороны за всю историю квартала.
Мальчик брался за любое дело, и при этом довольно ловко. Он начал просить милостыню, едва выучился говорить. Придав своей рожице выражение глиняного ангелочка, он обращался к прохожим на авениде Абанкай, и важные дамы всегда выказывали ему благосклонность. Позднее Сеферино чистил обувь, сторожил автомобили, продавал газеты, мази, халву, показывал зрителям их места на стадионе, был старьевщиком. Кто бы мог сказать, что это существо с черными ногтями, грязными ногами, головой в лишаях, завернутое в рваную куртку, с годами станет самым красноречивым проповедником во всем Перу?
Осталось загадкой, каким образом Сеферино научился читать — ведь он никогда не ходил в школу. В Чиримойо говорили, что крестный мальчика, привратник конгресса, научил его разбирать буквы и складывать слоги, а все остальное, как это бывает с деревенскими парнями, которые своей настойчивостью добиваются чуть ли не Нобелевской премии, пришло потом благодаря его упорству.
Сеферино Уанке Лейве было двенадцать лет, когда он бродил по столице от одного богатого дома к другому, выпрашивая непригодную одежду и старые ботинки (потом продавал все это на окраинах). Тогда-то он и встретился с особой, благодаря которой смог стать священнослужителем. То была помещица баскского происхождения по имени Майте Унсатеги. Трудно сказать, чего у нее было больше — денег или набожности, что больше поражало — ее поместья или истовое поклонение чудотворцу Лимпийскому. Однажды эта сеньора выходила из своей резиденции мавританского стиля, что на авениде Сан-Фелипе, в квартале Оррантиа, и шофер уже открывал перед ней дверцу «кадиллака», как вдруг она увидела посреди улицы, у тележки со старьем, собранным этим утром, несчастного мальчишку — «плод насилия». Нищенский вид, умный взгляд, волевые черты маленького волчонка привлекли внимание сеньоры Унсатеги. Она сказала, что вечером навестит его.
Весь тупик Чиримойо покатывался со смеху, когда Сеферино Уанка Лейва объявил, что к нему в гости приедет сеньора на огромном автомобиле, которым правит шофер в синей форме. Но когда в шесть часов вечера у тупика затормозил «Кадиллак» и донья Майте Унсатеги, элегантная, как герцогиня, вошла в переулок и спросила, где живет Тересита, все поверили (и разинули рты от удивления). Донья Майте была из тех деловых дам, которые даже естественные недомогания высчитывают с точностью до минуты, поэтому, не теряя времени, она сделала прачке предложение, вызвавшее у той крик радости. Заключалось оно в следующем: донья Майте оплатит образование Сеферино Уанки Лейвы и к тому же подарит его матери десять тысяч солей при условии, что мальчик станет священником.
Вот так «плод насилия» поступил в семинарию святого Торибио Могровехского в квартале Магдалена дель Map. В отличие от других случаев, когда призвание предшествует его осознанию, Сеферино Уанка Лейва раскрыл свое призвание, лишь став семинаристом. Он был богобоязненным и прилежным воспитанником, наставник хвалили его — и это наполняло гордостью Тереситу Негритянку и его покровительницу.
Однако по мере того, как Сеферино завоевывал высоты в изучении латыни, теологии, христианской доктрины и жития святых и укреплял свою веру, доказывая ее твердость как во время месс, молебствий, так и в самоистязаниях плоти, у юного семинариста стали отмечать первые симптомы того, что впоследствии — в ходе жестоки дискуссий, вызванных его оригинальными поступками, сторонники Сеферино называли проявлением «истовой набожности», а противники — «наследием Чиримойо», гнезд преступников и убийц. Так, еще до принятия сана, Сеферино начал распространять среди семинаристов идею о том, что следовало бы возродить крестовые походы бороться против сатаны, используя не только дамские средства вроде молитв и пожертвований, но и мужское оружие — кулаки, удары головой (он считал все это более эффективным), а если позволят обстоятельства — нож и пулю. Обеспокоенные духовные пастыри попытались выбить из Сеферино столь экстравагантные мысли, но его горячо поддержала донья Майте Унсатеги, и, поскольку латифундистка-филантропка оплачивала содержание чуть ли не трети всех семинаристов, высокие духовные лица и материальных соображений скрепя сердце сделали вид, будто ничего не знаю о теориях Сеферино Уанки Лейвы. Свои идеи он проверял на практике. Не было ни одного дня, свободного от занятий, чтобы юнец из Чиримойо вернулся в семинарию не совершив того, что он называл «проповедью с помощью силы». Однажды в своем квартале Сеферино увидел, как пьяный муж избивал жену. Юноша вступился, переломал хаму ноги, а затем прочел проповедь о том, как должен вести себя супруг, если он добрый христианин. В другой раз он заметил в автобусе вора-карманника, еще не опытного в своем деле, пытавшегося обчистить какую-то пожилую даму. Ударом головы Сеферино сбил с ног парня (а потом сам отвел его в клинику, где воришке наложили на физиономию швы). И еще был случай: в высокой траве парка Матамула Сефериж застал парочку, занимавшуюся любовью не совсем обычным для людей способом, он до крови избил обоих и под угрозой нового наказания заставил их на коленях поклясться, что они поженятся в ближайшее время. Но самым невероятным из поступков Сеферино, связанных с его теорией «понятия нравственности, как и знания, постигаются человеком ценой крови» (ведь надо же как-то расценить эти действия), был удар кулаком, нанесенный не где-нибудь, а в семинарской часовне, и не кому-нибудь а собственному наставнику и преподавателю томистской философии — робкому падре Альберто де Кинтеросу, который в порыве то ли братской любви, то ли солидарности пытался поцеловать семинариста в губы. Священник был существом простым и незлобивым, сан принявшим поздно — до этого дон Альберто сколотил себе капиталец и завоевал славу как психолог, когда вылечил молодого врача, который помешался сбив автомобилем — и убив — собственную дочь в окрестностях города Писко. Вернувшись из больницы, где дону Альберто зашили рану и вставили три зуба взамен выбитых, священник выступил против исключения Сеферино Уанки Лейвы из семинарии, и сам — о, благородство великих духом, которые при жизни, многократно подставляя для удара щеку, после смерти выбиваются в святые! — отслужил мессу, на которой «плод насилия» был посвящен в сан.
Однако не только убежденность семинариста Сеферино в том, будто церковь должна исправлять зло, применяя силу, тревожила его наставников. Беспокоила их и его вера (была ли она бескорыстной?) в то, что в длинном списке смертных грехов человеческих не должен значиться такой грех, как онанизм. Несмотря на увещевания учителей, пытавшихся цитатами из Библии и многочисленных папских булл, сражавших Онана, вывести юношу из заблуждения, жертва неудавшегося аборта доньи Анхелики, столь же упрямый, как и в материнской утробе, провоцировал по ночам своих товарищей, утверждая, что онанизм разрешен священнослужителям самим богом в вознаграждение за обет безбрачия и целомудрия. Грех, уверял Сеферино, — в наслаждении, скрываемом плотью женщины или (если подходить с более извращенных позиций) любой чужой плотью. В одном из своих рефератов, прочитанных на занятиях достопочтенного падре Леонсио Закариаса, Сеферино Уанка Лейва даже предположил, ссылаясь на двусмысленность неких эпизодов из Нового Завета, что есть все основания не отвергать как неприемлемую гипотезу о том, что иногда сам Иисус Христос (возможно, это произошло после его знакомства с Марией Магдалиной?) пытался, прибегая к мастурбации, устоять перед искушением и не утратить свою чистоту. Отец Леонсио Закариас упал в обморок, а протеже баскской пианистки чуть не выгнали из семинарии за святотатство. Сеферино раскаялся, просил прощения, выполнил все наложенные на него епитимьи и некоторое время воздерживался от пропаганды своих бредовых идей, доводивших его наставников до болезни, а семинаристов — до белого каления. Однако что касается его собственной персоны, то он продолжал заниматься прежней практикой, ибо вскоре его духовник услышал, как семинарист, стоя на коленях у скрипучей кабинки исповедальни, говорил: «На этой неделе, падре, я был возлюбленным царицы Савской, Далилы и супруги Олоферна». Именно эта склонность лишила Сеферино возможности отправиться в путешествие, которое, несомненно, духовно обогатило бы его.
Он только что принял сан, и так как, несмотря на свои столкновения с католической церковью, отличался образцовым прилежанием и никто не подвергал сомнению остроту его ума, церковные иерархи решили отправить Сеферино в Григорианский университет в Риме писать диссертацию. Строптивый священник, в отличие от пустых эрудитов, ослепших над пыльными рукописями ватиканской библиотеки, немедленно представил тезисы к своей будущей теме, которая называлась «О грехе одиночества как методе сохранения непорочности священнослужителей». Проект был с негодованием отвергнут, после чего Сеферино Уанка Лейва отказался от поездки в Рим и похоронил себя в преисподней Мендоситы, откуда никогда никуда не выезжал.
Он сам выбрал Мендоситу, хотя знал, что священники бегут из этого квартала Лимы, и не только по причине скопления всевозможных микробов, превративших этот уголок в питомник, где можно было бы изучать самые удивительные инфекции и паразитов (топография квартала была начертана иероглифами пыльных тропинок и разномастных лачуг, слепленных из картона, жердей, цинковых банок, глины, тряпок и газет). Сеферино избрал полем своей деятельности Мендоситу из-за царившей здесь атмосферы насилия. Действительно, квартал в то время представлял университет преступности, где можно было изучать все специальности: ограбление с применением силы, проституцию, искусство владения ножом, мелкий шантаж, торговлю дешевыми наркотиками, сутенерство.
За пару дней падре Сеферино Уанка Лейва соорудил собственными руками из необожженного кирпича лачугу, но дверь не навесил, сюда же притащил подержанную кровать и соломенный матрац, купленные на барахолке, и объявил, что ежедневно в семь будет служить утреннюю мессу под открытым небом. Он также сообщил, что станет исповедовать с понедельника до субботы, причем женщин — с двух до шести пополудни, а мужчин — с семи вечера до полуночи, дабы не смешивать их. Кроме того, он предупредил, что по утрам — с восьми до двух часов — намерен заниматься с детьми квартала, которых будет учить грамоте, счету и катехизису. Однако его энтузиазм разбился о суровую действительность. На утренние службы пришли лишь несколько стариков и старушек — все инвалиды, с угасшими жизненными рефлексами, которые иногда отправляли свои естественные нужды прямо во время богослужения, не снимая штанов. Что же касается исповедей и утренних занятий, то на них не явился ни один человек, хотя бы из простого любопытства.
В чем же дело? Просто в квартале Мендосита проживал знахарь Хаиме Конча, здоровенный тип, бывший сержант полиции, снявший свою форму после того, как начальство заставило его прикончить из пистолета какого-то несчастного желтокожего типа, прибывшего зайцем в порт Кальяо из неизвестного восточного порта. С тех пор Хаиме Конча с таким успехом занимался народной медициной, что, можно сказать, прибрал к рукам сердца всего населения Мендоситы, — разумеется, он очень ревниво отнесся к появлению возможного конкурента и объявил падре Сеферино бойкот.
Последний, узнав об этом по доносу (бывшей местной колдуньи доньи Майте Унсатеги, дочери басков, женщины иссиня-голубой крови, бывшей королевы и хозяйки всей Мендоситы, выжитой отсюда Хаиме Кончей), затуманившимся от радости взором и горячим сердцем понял: вот он — подходящий момент для сочетания его теории вооруженной проповеди с практикой. Как цирковой зазывала, он обошел все кривые переулки, крича во весь голос, что в следующее воскресенье в одиннадцать утра на местном футбольном поле он с помощью кулаков намерен выяснить со знахарем, кто из них двоих настоящий мужчина. Когда мускулистый Хаиме Конча появился в глинобитной лачуге падре Сеферино и спросил, должен ли он считать его объявление вызовом сразиться или просто смазать друг друга для виду по физиономии, уроженец Чиримойо лишь холодно спросил знахаря: может быть, тот желает драться не на кулаках, а на ножах? Бывший сержант удалился, содрогаясь от смеха; он всем рассказывал, что, будучи полицейским, обычно убивал бешеных собак одним щелчком по голове.
Бой между знахарем и священником вызвал необыкновенный интерес, и посмотреть на него пришли не только обитатели Мендоситы, но и кварталов Ла Виктория, Порвенир, с холма Сан-Косме и Агустино. Падре Сеферино, появившийся в брюках и в майке, перед поединком осенил себя крестом. Сражение оказалось кратким, но увлекательным. Уроженец Чиримойо физически был слабее экс-полицейского, но лучше владел приемами. Он с ходу швырнул в глаза противнику горсть молотого перца, заранее припрятанного в кулаке (позднее он пояснил своим болельщикам: что в криольской борьбе все приемы хороши). Как Голиаф, пошатнувшийся от коварного удара Давида, гигант экс-сержант, ослепнув, стал спотыкаться, и тут падре Сеферино еще наподдал ему ударами ногой в самые уязвимые у мужчины места. Экс-сержант согнулся пополам, Не давая ему передышки, священник пошел в открытую атаку, нанося прямые удары в лицо как правой, так и левой, потом изменил тактику: едва знахарь распростерся на земле, он закончил бой, поправ ногами грудь и живот бывшего полицейского. Хаиме Конча, рыча от боли и стыда, признал себя побежденным. Падре Сеферино Уанка Лейва, под бурные аплодисменты воздев очи к небесам и сложив руки крестом, пал на колени, истово молясь. Этот эпизод, отмеченный даже прессой и вызвавший раздражение архиепископа, обеспечил падре Сеферино симпатии его будущих прихожан. С тех пор на утренних мессах стало появляться больше народа, и несколько грешных душ — главным образом женских — попросили об исповеди. Однако это не составило и десятой части обширного плана, задуманного оптимистом священником с учетом потенциальных грехов обитателей Мендоситы.
Еще один поступок падре Сеферино был благосклонно встречен в квартале и завоевал ему новых прихожан: его великодушие, проявленное к Хаиме Кэнче после унизительного поражения экс-полицейского. Священник сам помог обитательницам Мендоситы смазать раны знахаря зеленкой и арникой и объявил, что не изгоняет его из квартала, а, напротив (в данном случае священник был похож на одного из наполеонов, который великодушно угощает шампанским и выдает замуж свою дочь за генерала, чью армию только что разгромил), предлагает Хаиме Конче служить в церкви пономарем. Знахарю было позволено, как и прежде, снабжать обитателей квартала всевозможными приворотными зельями и талисманами, хранящими от недуга, от дурного глаза, ненависти и несчастья, но сбывать их по умеренным ценам, установленным самим священником. Хаиме Конче запрещено лишь было вторгаться в духовную сферу. Падре Сеферино разрешил бывшему сержанту по-прежнему заниматься ремеслом костоправа, но запретил трогать больных, страдающих другими недомоганиями, коим надлежало обращаться в больницу.
Методы, с помощью которых падре Сеферино Уанка Лейва привлек в свою приходскую школу ребят Мендоситы, слетевшихся сюда, словно мухи на мед или чайки на мелкую рыбу, были не совсем праведными и вызвали первое серьезное предупреждение церковных властей. Священник пообещал детям за каждую неделю занятий дарить по картинке-образку. Понятно, эта наживка не привлекла бы толпы нищих сорванцов, не будь сии «картинки-образки» на самом деле изображением голых девиц, весьма не похожих на непорочных дев. Матерей, удивленных педагогическими методами священника, он заверил, что хоть это и кажется странным, но картинки-образки спасут их детей от соблазна нечистой женской плоти, сделают их менее задиристыми, более послушными и мечтательными.
Для привлечения девочек из своего квартала он использовал природную женскую склонность, благодаря которой и появилась первая библейская грешница, а также прибегнул к содействию Майте Унсатеги как своей помощницы в приходских делах. Донья Майте обладала мудростью, какую можно нажить только двадцатилетним управлением публичными домами на авениде Тинго Мария. Она сумела завоевать симпатии девочек, обучая их тому, что им нравилось: красить губы, румянить щеки и подводить ресницы без покупной косметики; делать из ваты, из подушечек и даже просто из газет накладные груди, бедра и ягодицы; танцевать модные танцы вроде румбы, уарачи, порро и мамбо. Увидев в женском отделении школы рой сопливых девчонок, дерущихся из-за единственной на весь квартал пары туфель на высоких каблуках и выделывающих всякие па под придирчивым оком бывшей сводницы, церковный инспектор не поверил своим глазам. Наконец, обретя дар речи, он поинтересовался у падре Сеферино, не собирается ли тот учредить Академию проституции.
— Я отвечу положительно, — сказал сын Негритянки Тереситы, не боявшийся высказываться откровенно. — Раз у них нет иного пути, кроме этого ремесла, так пусть хоть занимаются им профессионально. (За это он получил второе предупреждение от церковных властей.) Однако падре Сеферино вовсе не заслуживал титула Великого Сводника Мендоситы, каким его наградили недруги. Просто он был практичным человеком, хорошо знавшим жизнь. Он не поощрял развития древнейшей профессии, но лишь поставил ее на научную основу и принял жесткие меры, чтобы женщины, зарабатывавшие на жизнь таким образом (все обитательницы Мендоситы в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет), не трудились в периоды естественного недомогания, дабы клиенты из-за этого не лишали их платы за труд. Изгнание из квартала двух десятков сутенеров (а также и их преемников) было воистину героическим трудом на благо общественного здравоохранения, за который падре Сеферино получил несколько ножевых ран и поздравление алькальда района Ла Виктория. В этой борьбе священник не раз прибегал к методу «вооруженной проповеди». С помощью Хаиме Кончи как уличного глашатая падре Сеферино объявил, что закон и религия запрещают мужчине жить трутнем за счет низших и более слабых существ и отныне каждый, кто осмелится эксплуатировать женщину, познакомится с его кулаками. Ему пришлось выбить челюсть Великому Маргарину Пачеко и глаз Папеньке, сделать импотентом Педрито Удавку и идиотом Самца Сампедри, а также наградить кровавыми синяками Хромулю из Уамбачо. В разгар этой кампании, достойной Дон Кихота, падре Сеферино однажды ночью попал в засаду и был исполосован ножами; преступники решили, что он мертв, и бросили его в грязи на растерзание псам. Однако жизнестойкость бывшего мальчугана, который вырос в соответствии с учением Дарвина об естественном отборе, оказалась сильнее ржавых лезвий — он выжил, хотя на теле и лице сохранились шрамы, сделавшие его, по мнению искушенных дам, еще привлекательнее. На теле его осталось полдюжины рубцов, в памяти запечатлелось лицо главаря налетчиков, которого после суда направили, как безнадежно больного, в психиатрическую лечебницу. Главарь был из Арекипы и носил библейское имя и фамилию морского животного: его звали Эсекиель Дельфин.
Предпринятые Сеферино усилия и жертвы оказались не напрасны: квартал Мендосита, как ни странно, очистился от сутенеров. Падре стал любимцем всех женщин квартала; с тех пор они толпами ходили к мессе и каждую неделю исповедовались. Чтобы ремесло, кормившее их, приносило как можно меньше зла, священник пригласил в квартал врача из Католической ассоциации, который давал женщинам консультации по вопросам половой гигиены и практические советы по своевременному обнаружению у себя или у клиента признаков венерических болезней. Для тех случаев, когда методы контроля над рождаемостью — им обучала девочек Майте Унсатеги — не оправдывали себя, падре Сеферино перевел из Чиримойо в Мендоситу ученицу доньи Анхелики, чтобы та своевременно расправлялась с головастиком — результатом продажной любви. Тринадцатое предупреждение от церковных властей падре Сеферино получил, когда иерархам стало известно, что священник поощряет применение предохранительных средств и является убежденным сторонником абортов.
Четырнадцатое предупреждение поступило за так называемую Ремесленную школу, которую осмелился открыть падре Сеферино. В этой школе опытнейшие профессионалы квартала за увлекательными беседами (то один случай расскажут, то другой), когда и время-то проходит незаметно, без особых формальностей учили новичков различным способам зарабатывать себе на фасоль. Здесь, например, показывали упражнения, после которых пальцы становились умными и ловкими инструментами, способными проникнуть в любой карман, сумку, портфель, чемодан и среди множества предметов отыскать вожделенный кошелек. Здесь же объясняли, каким способом, имея немного терпения, можно простой проволочкой заменить самый хитрый ключ и открыть дверь и как завести мотор автомобиля любой марки, если ты случайно не его владелец. Еще в школе показывали, как вырвать сумочку на ходу и удрать — бегом или на велосипеде, как перелезать через стены и бесшумно выставлять оконные стекла, как делать предмет неузнаваемым, когда у него появился другой хозяин, и — исчезать из тюремного подвала без разрешения полицейского комиссара. В упомянутой школе мастерили ножи и даже (возможно, это были наговоры завистников?) изготовляли наркотики. Все это, в конце концов, завоевало падре Сеферино любовь и признательность мужчин Мендоситы и одновременно явилось причиной первого столкновения с полицией района Ла Виктория, куда Сеферино был доставлен однажды ночью и где ему угрожали судом и тюрьмой, поскольку для стражей порядка он стал олицетворением «мозгового центра» всего преступного мира. Как и следовало ожидать, падре Сеферино был спасен его влиятельной покровительницей.
К тому времени священник сделался популярной личностью, привлекшей внимание газет, журналов и радио. Его деятельность вызывала оживленные дискуссии, Некоторые считали Сеферино чем-то вроде святого, представителем передового отряда священнослужителей, который призван революционизировать церковь. Но были и другие, считавшие его «пятой колонной» сатаны, задача которого — изнутри подорвать обитель святого Петра. Благодаря падре Сеферино, или по его вине, Мендосита превратилась в туристский центр: исконный рай бандитов привлек любопытных, верующих, журналистов, просто снобов, которые стекались сюда, чтобы увидеть, потрогать священника, поговорить с ним или попросить у него автограф. Его популярность вызвала раскол местной церкви: один лагерь считал ее благотворной для дела религии, другой — вредоносной.
Однажды во время процессии в честь чудотворца Лимпийского — этот культ был привнесен в Мендоситу падре Сеферино и распространился по всему приходу, как огонь по сухой соломе, — священник победоносно объявил, что во всем приходе нет ни одного живого некрещеного ребенка, включая и тех, что родились в последние десять часов. Гордость переполняла сердца всех верующих, и впервые церковные власти направили священнику поздравления после столь многочисленных нареканий.
Скандал вспыхнул на празднике в честь патронессы Лимы, святой Розы, когда падре Сеферино Уанка Лейва заявил во всеуслышание, выступая на спортивной площадке Мендоситы, что среди его скромной паствы нет ни одной супружеской пары, чей союз не был бы освящен богом перед алтарем в глинобитной лачуге. Прелаты выслушали это заявление в полнейшем изумлении — они хорошо знали: в бывшей империи инков наиболее сильным и уважаемым социальным институтом, помимо церкви и армии, является проституция. Едва волоча ноги, прелаты явились самолично убедиться в достигнутых успехах. То, что они обнаружили, бродя по сросшимся между собой домишкам Мендоситы, повергло их в ужас и довело до тошноты. Объяснения падре Сеферино были слишком абстрактны и пестрели жаргонными словечками (уроженец Чиримойо, проведя много лет в этом квартале, забыл классический испанский, которому его обучали в семинарии, и воспринял все «варваризмы» и «идиотизмы» обитателей Мендоситы). Поэтому новую систему искоренения свободного сожительства прелатам разъяснил бывший знахарь и бывший сержант полиции Хаиме Конча. Система была святотатственно проста: перед тем как вступить в связь, каждая пара приходила к священнику, и тот благословлял ее. Таким образом, почувствовав первый укол желания, любовники спешили сочетаться законным браком перед господом, и падре Сеферино не утомлял их нескромными вопросами. В результате многие жители Мендоситы оказались женатыми дважды и трижды, ни разу не овдовев, причем пары сочетались, путались и распадались с космической скоростью; грехи, неизбежные в такой ситуации, падре Сеферино отпускал на очищающей исповеди. (Свои объяснения происходящему он обычно подкреплял поговоркой, которая была не только еретической, но и вульгарной: «Клин клином вышибают».) Униженный и оскорбленный, едва не получивший пощечину от самого архиепископа, падре Сеферино Уанка Лейва отметил юбилей: сотое предупреждение.
Вот так автор наводящих ужас прогрессивных начинаний и жертва строжайших взысканий, объект нескончаемой полемики, обожаемый одними и унижаемый другими, падре Сеферино Уанка Лейва достиг расцвета: ему исполнилось пятьдесят. Это был мужчина с широким лбом, орлиным носом, пронзительным взглядом, отличавшийся праведностью и добротой, который с юных лет в семинарии был убежден, что воображаемый акт любви — не грех, а, напротив, действенное средство защиты чистоты, что и помогло ему сохранить свою девственность. Тем временем в квартале Мендосита появилась некая искусительница по имени Майте Унсатеги, выдававшая себя за труженицу общественного здравоохранения (не была ли эта женщина, в конце концов, просто проституткой?). Она вползла в Мендоситу, подобно райскому змию, принимающему, как известно, сладострастные, неотразимые формы цветущей женственности.
Майте Унсатеги рассказывала, как она самоотверженно трудилась в сельве Тинго Марии, помогая индейцам освободить кишки от паразитов, и как бежала оттуда, сраженная горем, когда стая крыс сожрала ее сына, В жилах Майте Унсатеги текла кровь басков, следовательно — аристократов. Казалось бы, ее ослепительная внешность и гибкая походка должны насторожить падре Сеферино Уанку Лейву, но он совершил глупость, приняв ее в качестве помощницы и поверив, что призвание Майте, как она утверждала, — спасение душ и истребление паразитов. (В глубокие пропасти не раз попадали добродетели, твердые как монолит.) На самом же деле Майте решила склонить священника к греху. К достижению этой цели она приступила, поселившись в лачуге священника и заняв кровать, отделенную от его ложа смехотворной занавесочной, которая к тому же была совершенно прозрачной. По ночам при свете свечи соблазнительница — под предлогом того, что это улучшает сон и укрепляет здоровье, — делала гимнастические упражнения. Но разве можно назвать шведской гимнастикой танцы, напоминавшие о гаремах из «Тысячи и одной ночи», которые она исполняла стоя на месте? Она крутила бедрами, поводила плечами, дрыгала в воздухе ногами, раскидывала руки, а задыхающийся слуга божий смотрел на этот умопомрачительный спектакль, как на театр теней, сквозь освещенную тонкую занавеску. А затем, когда обитатели Мендоситы уже погружались в сон. Майте Унсатеги имела наглость спрашивать воркующим голоском, слыша скрип досок под соседним матрацем: «Вы еще не спите, падре?»
Надо признать, что, желая скрыть свои намерения, прекрасная соблазнительница работала по двенадцать часов в день, вводя вакцины, обрабатывая гнойники, дезинфицируя трущобы и вытаскивая на солнышко стариков. Но все это она делала, одетая лишь в шорты, с голыми ногами, руками, открытыми плечами и животом, так как, по ее словам, в сельве она привыкла трудиться именно в таком виде. Падре Сеферино продолжал свою бурную пастырскую деятельность, но худел час от часу, на лице обозначались синие подглазья, а взгляд его постоянно искал Майте Унсатеги: при виде ее у священника непроизвольно открывался рот и по губам стекала струйка слюны. В это время у него появилась привычка ходить, неизменно засунув руки в карманы сутаны, его пономариха — бывшая специалистка по абортам донья Анхелика — предсказывала, что в любой момент у падре может открыться кровохарканье.
Падет ли пастырь от злых чар труженицы общественного здравоохранения, или его изнуряющий метод противодействия поможет ему устоять? Не попадет ли он из-за этих методов в психолечебницу или даже в могилу? Охваченные спортивным азартом, прихожане Мендоситы, следившие за этой борьбой, начали было заключать пари, устанавливать сроки, высказывать самые невероятные предположения: дочь басков забеременеет от священника; уроженец Чиримойо убьет ее, чтобы покончить с искушением; он сложит с себя сан и женится на ней. Но, как это всегда бывает, жизнь одним махом опрокинула все предположения.
Выдвинув идею о необходимости возвращения к чистой и безыскусной вере библейских времен, когда все верующие жили сообща, падре Сеферино начал энергичную кампанию за возрождение в Мендосите общины, превратив таким образом район в подлинную лабораторию христианского эксперимента. Согласно указаниям священника, супружеские пары должны были раствориться в ячейках, состоявших из пятнадцати — двадцати членов, между которыми распределялись различные обязанности. Членам ячейки полагалось жить совместно в специально отведенных домиках и являть собой новую форму общественной жизни, которой суждено заменить классическую супружескую пару. Падре Сеферино первым подал пример: он расширил свою лачугу и поместил в ней кроме труженицы общественного здравоохранения двух своих помощников — бывшего сержанта Литуму и бывшую специалистку по абортам донью Анхелику. Эта микрообщина стала первой в Мендосите, по примеру которой должны были создаваться и другие.
Падре Сеферино провозгласил, что в каждой католической общине между представителями одного пола будет установлено подлинное, сверхдемократическое равенство. Женщины с женщинами и мужчины с мужчинами должны обращаться друг к другу на «ты», но, чтобы не забывать о различиях в физиологии и интеллекте, установленных господом богом, священник приказал женщинам величать мужчин «вы» и при разговоре не смотреть им прямо в глаза в знак уважения. Все обязанности по приготовлению пищи, уборке, снабжению водой из ручья, уничтожению тараканов и крыс, стирка и другие домашние дела распределялись поровну; заработанные — честным и нечестным путем — деньги полностью передавались в общину, которая после покрытия общих расходов распределяла остаток поровну между всеми. Стены в общинных домах были упразднены, чтобы покончить с греховной привычкой хранить семейные тайны, так что все жизненные процессы, начиная с отправления естественных надобностей и кончая интимнейшими отношениями, должны были проходить на виду у всех.
Еще до вторжения в Мендоситу военных и полицейских частей, осуществленного с поистине кинематографическим размахом — военные были вооружены карабинами, базуками и снабжены противогазами, — вторжения, закончившегося облавой, в результате которой многочисленные обитатели квартала, женщины и мужчины, были посажены в тюрьму, однако не за то, чем они стали или были в свое время (ворами, бандитами, проститутками), а по обвинению в «подрывных действиях» и до того, как падре Сеферино был доставлен в военный трибунал по обвинению в том, что, прикрываясь саном, он содействовал проникновению коммунизма (священника отпустили благодаря заступничеству его покровительницы, миллионерши Майте Унсатеги), — еще до всего этого эксперимент с возрождением первых христианских общин был обречен на провал.
Естественно, этот опыт был обречен на провал церковными властями (предупреждение номер двести тридцать три), которые нашли его сомнительным с точки зрения теоретической и нелепым — с практической (к сожалению, дальнейшие события — увы — подтвердили правильность этой точки зрения): опыт был обречен в силу самой природы обитателей Мендоситы, проявивших полнейшее неприятие коллективного начала.
Проблемой номер один стали отношения полов. В общих спальнях с тесно поставленными матрацами под прикрытием темноты творилось нечто невообразимое, весьма похожее на содомский грех. Вполне понятно, росло не только число беременных, но и — как следствие — преступлений из ревности.
Проблемой номер два стали кражи: общинное сосуществование вместо того, чтобы искоренить в людях собственнические инстинкты, разожгло их до безумия. Жители общины воровали друг у друга абсолютно все, даже зловоние, которым они дышали. Вместо того чтобы сблизить и подружить людей, община сделала обитателей Мендоситы заклятыми врагами. В этот период растерянности и самовластия труженица социального здравоохранения (может, то была Майте Унсатеги?) объявила, что она беременна, и бывший сержант Литума признал; да, он — отец ребенка. Со слезами на глазах падре Сеферино благословил союз, явившийся результатом его социального эксперимента. (Говорят, с тех пор он рыдал по ночам, вознося элегические песнопения луне.)
Почти сразу после этого духовный пастырь был вынужден вступить в борьбу против катастрофы гораздо более значительной, чем потеря .дочери басков, обладателем которой он так и не стал. В Мендоситу прибыл опасный соперник, евангелистский пастор дон Себастьян Берга. Он был еще молодым человеком, спортивной внешности и с развитыми мускулами, который сразу же по прибытии объявил, что за шесть месяцев намерен обратить всю Мендоситу в подлинную веру — реформистскую. И не только жителей, но и самого католического священника и трех его приспешников. Дон Себастьян (не тот ли, кто до посвящения в сан пастора был миллионером-гинекологом?) располагал всем необходимым, чтобы поразить воображение местных жителей: он выстроил себе кирпичный дом, по-царски оплатив работавших на стройке мендосийцев, и начал кампанию так называемых «религиозных завтраков», на которые бесплатно приглашались все, кто хотел послушать его беседы о библии и выучить некоторые псалмы. Соблазненные речистостью и прекрасным баритоном нового пастыря, равно как и кофе с молоком и жареной свининой, обитатели Мендоситы стали дезертировать, сменив глинобитную католическую обитель на евангелические кирпичи.
Как и следовало ожидать, падре Сеферино вновь прибегнул к тактике «вооруженной проповеди». Он вызвал дона Себастьяна, чтобы в бою доказать, кто из них подлинный посланец господа. Однако, ослабленный усиленными занятиями по Онану, позволившими ему устоять перед искушениями сатаны, уроженец Чиримойо пал в нокауте после второго удара дона Себастьяна Берга, который в течение двадцати лет ежедневно по часу занимался культуризмом и боксом (уж не в гимнастическом ли зале «Ремихиус» в Сан-Исидро?). Но не потеря двух передних зубов и не разбитый нос потрясли падре Сеферино. Его сломило унижение, сознание того, что он побежден своим собственным оружием, а также тот факт, что с каждым днем он терял все большее число своих прихожан, перебегавших в стан неприятеля.
Страшась грядущего и исходя из правила, что жестокий недуг требует еще более жестокого лечения, уроженец Чиримойо притащил однажды в свою глинобитную лачугу несколько цинковых банок с какой-то жидкостью, которые он спрятал от любопытных глаз (однако обоняние любого сведущего человека безошибочно могло бы установить, что это керосин). В ту же ночь, когда все спали, католический священник в сопровождении верного Литумы перепрыгнул через забор кирпичного дома и с помощью крепких гвоздей заколотил все окна и двери толстыми досками.
Дон Себастьян Берга спал сном праведника — ему снился племянник, который, раскаявшись в кровосмесительной связи с собственной сестрой, принял сан священника папистской церкви в одном из кварталов Лимы (может быть, в Мендосите?). Дон Себастьян Берга не слышал ударов молотка Литумы, превращавшего евангелический храм а мышеловку, потому что бывшая повивальная бабка донья Анхелика незадолго до этого, выполняя приказ падре Сеферино, подсунула евангелисту сильное снотворное. После того, как вражеская миссия была закупорена, уроженец Чиримойо самолично облил ее керосином. Потом перекрестился, зажег спичку и приготовился ее бросить. Но что-то удержало его. Бывший сержант полиции Литума, труженица общественного здравоохранения, бывшая специалистка по абортам и бродячие собаки Мендоситы видели, как падре Сеферино, длинный и худой, с мученическими глазами, стоял под звездами, держа горящую спичку и раздумывая, стоит ли зажарить живьем своего врага.
Сделает ли он это? Бросит ли горящую спичку в керосин? Отважится ли падре Сеферино Уанка Лейва превратить ночь Мендоситы в пылающий ад? И загубить жизнь, целиком отданную служению, вере и добру? Или, затоптав огонь, уже опаляющий его ноги, он откроет двери кирпичного дома и на коленях будет просить евангелиста о прощении? Чем разрешится эта парабола?
14 |
14