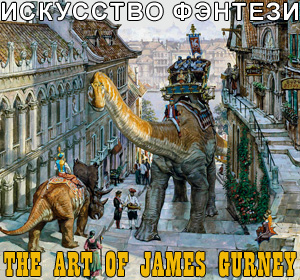02 |
Упырь
Алексей Константинович Толстой
Глава 2. Заколдованный портрет.
Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека,
которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл
сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием
слушала и сказала ему, когда он кончил:
— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?
— Бабушка, — отвечала Даша, — я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей
комнате передвигали большой шкал, и она упала с самого верху.
Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:
— Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм! фантазия!..
— То-то, фантазия! — проворчала старуха. — В наше время фантазий-то не писали,
да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! — продолжала она с
недовольным видом. — Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их
смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий
Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж
натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И
провизию-то, мой батюшка, и амуницию — все поели. Бывало, заснешь, говорит, в
палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили,
мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.
Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли,
теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответственность
читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они
продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.
К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так,
чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него
смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не
получив на то позволения от ее самой.
В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным
видом посматривая на Руневского.
Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с
хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно
обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в
приготовленную для него квартиру.
— В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса.
— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна. — Разве ты забыл, что
в других нет места?
— Да, да, — проворчал лакей, — в других нет места. Однако с тех пор как
скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!
Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых
привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на
дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему
объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат
из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек
нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.
Вообще, когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело,
как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал
это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.
— Впрочем, мне все равно, — продолжал лакей, — в зеленых так в зеленых!
— Ну, ну, возьми свечку и не умничай! Лакей взял свечку и повел Руневского во
второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра
Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:
— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало
передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не
запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на
что они? Какой от них прок?
— А что это за комнаты? — спросил Руневский.
— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья
Андреевна, — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая
глаза кверху, — дай Господь ей царство небесное…
— После, после расскажешь! — сказал Руневский, — прежде проводи меня.
Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором ухе успели разложить
огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как
для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид.
Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой
затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с
короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди.
Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут
были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.
— Чей это портрет? — спросил он лакея.
— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они
похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я туг сходства большого
не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого
цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!
Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне,
но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.
— Прасковья Андреевна, — отвечал тот, — была сестрица бабушки теперешней
генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то… как бишь
его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой
престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, Бог с ним! Он-то,
изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили.
Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем
зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и
зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг
пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка,
вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и
оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их
жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не
смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь,
много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.
— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?
— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил,
там мудрено ли другим хозяевам поселиться?
Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот,
казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось
рассказывать и рассуждать.
— Вот тут, — говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — есть еще
целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил.
Если б их отделать по-нынешнему да вынесть из них старую мебель, так они были бы
еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не
догадаются, а у нашего брата совета не спросят!
Чтобы от него скорее избавиться, Руновский всунул ему в руку целковый и сказал,
что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.
— Чувствительнейше благодарим, — отвечал лакей, — желаю вашей милости спокойной
ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я
сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом
неизвестен, а мы, слава Богу, впотьмах не споткнемся.
Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал
ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.
Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными
занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она
была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель
на диване, возле маленькой затворенной двери.
Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший
ему черты, врезанные в его сердце.
Вот, — подумал он, — картина, которая по всем законам фантастического мира
должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать
мне неотпетые свои кости! Но сходство с Дашей дало другое направление его
мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не
давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в
какой-то полусон, ще, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г.
Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.
Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его
внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине,
увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее
одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи
Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.
— Вы ли это? — вскричал Руневский, — об эту пору, в этом наряде!
— Мой друг, — отвечала она, — если я вам мешаю, я уйду прочь.
— Останьтесь, останьтесь! — возразил он. — Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?
Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.
— Ах, — сказала она, — мне немного времени остается с вами говорить; я скоро
должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!
Она опустилась на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.
— Где жарко? откуда вы пришли? — спросил Руневский.
— Не спрашивайте меня, — отвечала она, вздрогнув при его вопросе, — не говорите
со мной об этом! Я так рада, что вас вижу, — прибавила она с улыбкой. — Вы долго здесь пробудете?
— Как можно дольше!
— И всегда будете здесь ночевать?
— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?
— Для того чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда
прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.
— Это не мудрено, я только сегодня приехал.
— Руневский, — сказала она, помолчав, — окажите мне услугу. В углу, возле
дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите
его и завтра обручитесь с моим портретом.
— Боже мой! — воскликнул Руневский, — чего вы от меня требуете!
Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.
— Ради Бога, — закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, —
ради Бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так
нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!
Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что
держит руку остова.
— Даша, Даша! — закричал он в исступлении, — что это значит?
— Я не Даша, — отвечало насмешливым голосом привидение, — отчего вы приняли меня за Дашу?
Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в
дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.
— Чего изволите, сударь? — спросил он.
— Я тебя не звал.
— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается! Руневский в самом деле
увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял
причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи
Андреевны; когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и
ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.
Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне
сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное
им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова,
но которые французы называют cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и после
пробуждения и часто, но не всегда, бывает сопряжены с давлением в груди.
Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностию.
Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в
дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.
— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.
— Воля ваша, — отвечал он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не
войду опять в свою комнату!
— Да говори же, что в твоей комнате?
— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!
— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!
— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она
там, сердечная; прости меня, Боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со
страха, если б она оглянулась, да, к счастию, я успел тихонько уйти, и она меня
не заметила.
В эту минуту вошел слуга Руневского.
— Александр Андреевич, — сказал он дрожащим голосом, — здесь что-то нехорошо!
На вопрос Руневского он продолжал:
— Мы было поговорили с Яковом Антипычем да и легли спать, как Яков Антипыч мне
говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засылал, да к тому ж Яков Антипыч не
совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся
на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк, шарк,
да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли
что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору,
теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!
Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и
отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга
Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной
двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать
зрелище, представившееся его глазам.
То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных
креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и
прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука ее была
костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.
Стон этот проник в самую глубину души Руневского.
Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что
казалось ему привидением, была не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через
спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский
не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не
решались войти в комнату.
— Позвольте мне ночевать поближе к вам, — сказал лакей, — оно все-таки лучше; да
и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только
крикнуть: Яков!
— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно…
Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми
в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не
мог забыть своего приключения.
Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или
Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет.
Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка
Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца,
но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и
вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом.
Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и
никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству
старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:
— И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я
родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую
похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому
нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива
была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда
затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее
люди были теперешних!
Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и
щелкал и сосал попеременно.
В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце
старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы
его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и
сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.
— А что касается до Даши, — прибавила она, — то я давно заметила, что ты ей
понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью
молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или
мать, за того они и выходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и
воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не
брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили
они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама
по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учители-то
к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки
скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по
воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в
поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как
плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и
бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же
сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками
воевать! Ворочусь — хорошо! не ворочусь — так уж, по крайней мере долг свой
исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь
светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я,
старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того;
поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи
Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда
уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться
с твоей будущей бабушкой!
Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.
Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до
другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он,
пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб
успокоить волнение своего сердца.
Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные
шаги, или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли,
и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины.
Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на
одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со
скамью, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко.
В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот
вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе
повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного
рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он,
может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы,
которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он,
Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил
Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.
Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.
— У нас, видно, одни вкусы, — сказал он, улыбаясь. — Тем лучше! Сядем вместе и
поболтаем о чем-нибудь.
Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря
ни слова.
Наконец Рыбаренко прервал молчание.
— Признайтесь, — сказал он, — что, когда мы познакомились на бале, вы приняли
меня за сумасшедшего?
— Не могу скрыть от вас, — отвечал Руневский, — что вы мне показались очень
странными. Ваши слова, ваши замечания…
— Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые
упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого
бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?
— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.
— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко. — Скажите, поехала ли к ней ее внучка?
— Она теперь у нее, я видел ее недавно.
— Как, и она еще жива?
— Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный Друг, во мне кажется, что вы сильно
наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.
Рыбаренко, казалось, не слыхал последних слов Руневского. Он приставил палец к
губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.
— Странно, — сказал он наконец, — упыри обыкновенно так долго не мешкают. И
Теляев там?
— Там.
— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и
он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы
принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.
— Воля ваша, — отвечал Руневский, — я никак не могу думать, чтоб вы говорили
сериозно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.
— Как, — возразил Рыбаренко, — вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы
не слыхали, как Семен Семенович щелкает?
— Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять
человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и
пользующегося общим уважением.
— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого
намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши. Неужели,
проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного
из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся, вблизи
существ, нам антипатических и принадлежащих другому миру?
— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел;
но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной,
как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы
бригадирши; столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без
сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.
Рыбаренко улыбнулся.
— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он. — Прекрасный фасад! совершенно в
италиянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас
подействовало. Послушайте, — продолжал он, схватив руку Руневского, — будьте
откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного
на даче у старой Сугробиной?
Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную
доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему
рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал
ему, когда он кончил:
— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось.
История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам
когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам
сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради Бога, не
говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более
связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни,
которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.
Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и,
прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:
— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления
расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.
Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для
этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около
ста лет никем не обитаемый и известный под названием чертова дома (la casa del
diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья Borgo Vico, где была моя
квартира, в аlеrgo del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо
этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него
внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем
преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с
особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего
необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде
затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и
ужасно запачканы.
В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы
спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертова дома?
Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным
полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему
бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что,
однако, аббат сносил с большим терпением.
На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин
дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за
англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво,
что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войты
в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им
всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.
Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как
под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.
Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и
мы вместе вышли из лавки.
— Могу вас уверить, синьор, — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так
беспокоитесь и что чертов дом нисколько не заслуживает вашего внимания. Это
совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как
выдумка самого дон Пьетро.
— Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при
таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?
— На это есть более причин, чем вы думаете, — отвечал аббат.
— Как, — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, —
неужели он делает фальшивую монету?
— Нет, — возразил аббат, — дон Пьетро — большой чудак, но честный человек.
Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях
с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.
— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.
— Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с
товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и
сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии
товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что,
кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, Приобретенные им
вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.
— Скажите же, ради Бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта
история про чертов дом?
— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его
семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие,
распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с
жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о
приключении, которое первоначально дало им повод.
Надобно вам знать, что хозяину чертова дома с лишком восемьдесят лет. Отец его,
который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих
сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея
огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на
несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он
путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, — продолжал аббат, — что вы не
англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен
в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился
в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.
Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб
значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон
Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так
дорожился, что не много сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать
цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В
нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который
надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал,
но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.
Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее
думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма
сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если
бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по
существующей цене, или оставил его в магазинах; но он распустил в городе слух,
что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро.
Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он,
высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что кто умеет
нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах
жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, т сайгуо.
В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему
каменную доску с кабалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять
ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической
силы черт, по договору получил право взять душу дон Пьетро.
Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от villa d'Este. В одно утро
приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел
человека на черной лошади, который остановился У окна и ему сказал: Знай, что я
черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей
братии! Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с
дон Пьетро, лежащим поперек седла.
Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал
этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке:
черт, посетивший его неожиданно, застал его в постеле и не дал ему времени одеться.
02 |
2